Новую драму датчанина Томаса Винтерберга «Еще по одной» о мужчинах в общеобразовательной школе, алкоголизме и мелкобуржуазности существования показали на 42-м ММКФ
@Елена Патеева
Фильмографию Томаса Винтерберга сложно назвать ровной, но, как это часто бывает, именно в национальном контексте он звучит наиболее убедительно, а потому его новой картине не избежать сравнений с «Охотой». Помимо датского языка, их роднит притчевость сюжетной коллизии, которая в «Еще по одной» в силу жанрового своеобразия близится к анекдотичности, а также социальная проблематика и камерность повествования. И даже герой Мадса Миккельсена, сыгравшего у режиссера одну из своих знаковых ролей, снова работает с детьми и страдает от семейных проблем.
Мировая премьера «Еще по одной» ожидалась в этом году на Каннском фестивале, но состоялась несколько позже, в Торонто, а первые показы картины в России прошли в рамках ММКФ. Нельзя не отметить удачную локализацию названия (вслед за англоязычным прокатом, где фильм получил название «Another Round», ушедшую от оригинального «Druk»): на этот раз характерное для сюжетов Винтерберга движение за рамки нормы стартует не столько из обычности, сколько из заурядности. Герои фильма — школьные учителя, задавленные рутинной; и эта «задавленность» кажется настолько тривиальной, настолько нетрагичной, что алко-эксперимент, затеянный компанией мужчин среднего возраста для «поднятия настроения», даже не воспринимается как саморазрушение. Персонажи, чьи истории вызывают ироничное сочувствие, сами словно бы отказывают себе в субъектности ровно до того момента, пока не начинают свое «исследование». Мартин, герой Мадса Миккельсена, забыв о мечтах о научной карьере, спустя рукава преподает старшеклассникам историю и переживает период охлаждения в отношениях с женой, которая, как и дети, даже не слышит, когда он к ним обращается. Его друг Николай, напротив, не знает, как увильнуть от домашних обязанностей; жена, трое маленьких детей, собаки и купленный, очевидно, на деньги жены дом у моря – рутина, от которой он с радостью сбегает. Петер руководит школьным хором, который, конечно же, до поры до времени никак не хочет петь слаженно; а Томми, футбольный тренер младшеклассников, больше всего проникается Очкариком, которого не принимает команда и, который, конечно же, первым заражается энтузиазмом пустившегося в алкогольные эксперименты и наконец поверившего в успех команды тренера, и забивает свой первый гол. Промежуточным результатам совместного предприятия горе-учителей сложно отказать в убедительности: повышение промилле в крови поначалу действительно выглядит как активатор, некий созидательный элемент, которого так не хватало героям, чтобы достичь самореализации.

Мелкобуржуазность существования — не жизни, поскольку то, что, как кажется, незаметно поглотило и стерло высокие стремления, любовь и идеализм молодости вместе с самой молодостью, сожрало внутренний ресурс, совсем не похоже на нормальную жизнь. Это признают и сами герои: они от такой жизни становятся все менее похожими на самих себя. Эта мелкобуржуазность, сожравшая идейность (не сам ли Винтерберг оглядывается на Догму, предвосхищая очередной критический пассаж о том, как далеко отстоит от нее его нынешнее творчество?) — закономерный, как кажется, итог: всему свое время, время жить и время умирать — и время сопротивляться смерти. Давно отказавшиеся от амбициозных стремлений юности, герои радуются тривиальному, их новые радости камерны и материальны: вовлеченность учеников в учебный процесс, мурашки по коже от музыки, возможность поговорить с женой за ужином, отправиться с семьей в поход, потанцевать с нетрезвыми друзьями на улице и с разбегу прыгнуть в воду с пирса. И внезапно оказывается, что бороться нужно не за то, чтобы оказаться в ряду величайших алкоголиков рядом с Черчиллем и Хемингуэем, а за то, чтобы оставаться на своем месте, чтобы продолжать быть собой, чтобы жить собственной жизнью, по-настоящему жить. Погоня за счастьем оказывается не тем конкурсным забегом, где на каждой остановке следует выпивать по бутылке пива, в котором участвует датская молодежь, а беговой дорожкой, с которой можно и соскользнуть.

Смерть «духа» на фоне кризиса традиционной маскулинности ожидаемо вдохновляет искать истину в вине. А все, что происходит с героями далее, происходит закономерно; все более чем предсказуемо — однако Винтерберг заставляет зрителя по старой памяти напрягаться в ожидании чего-то плохого гораздо чаще, чем это плохое происходит на экране. Это не «Охота», где герою не суждено отмыться от проступка, который он не совершал. В этой картине героям многое сходит с рук: можно прийти на работу, выпив полбутылки водки, и можно отхлебывать из термоса, пока ведешь урок, и даже столкновение с дверным косяком на глазах у всего педагогического состава можно объяснить головокружением. Хотелось бы сказать, что в реальности «Еще по одной» и жить в общем-то легко, но нет — эта легкость бытия обманчива или, скорее, амбивалентна. Только из того, от чего хочется запить, по сути и состоит жизнь, которая с той же легкостью преображается от еще одного глотка.
Иногда кажется, что режиссер сам пересекает некую грань, и происходящее становится чуть-чуть «слишком»: слишком эмоционально окрашенным, слишком предсказуемым, слишком эстетизированным, слишком похожим на музыкальный клип. Но происходящее на экране — повторяющееся из раза в раз пересечение грани — по-другому и не может быть выражено. Вступив на скользкую дорожку пьянства, герои могут играть лишь на повышение: поэтому и веселье, перехлестывая, становится почти буйным, и шутки, угадываясь заранее, намеренно становятся словно бы неловкими, и даже танцы длятся дольше, чем это кажется уместным, — и, наверное, именно это и становится моментом очищения: герой не просто теряет ощущение нормы, а выходит в пространство, где на нее уже не нужно оглядываться, ведь за это ему ничего не будет; где нормы как будто бы нет — зато есть свобода. У такого освобождения могут быть последствия: похмелье, разбитый лоб, ночные мочеиспускания, по примеру собственных детей, прямо на матрас, семейные конфликты, признание в измене и смерть. У краткого мига свободы могут быть последствия, но у них нет цены.

Звучащее в кадре наравне с гимном Дании такое знакомое и одновременно, пожалуй, неожиданное для российского зрителя «да у нас вся страна пьет», наряду с разрывающей повествование вставкой-нарезкой кадров, запечатлевшими выпивающих политиков (подборка, среди героев которой, под стать любому анекдоту, нет ни одного не знакомого публике лица: Брежнев, Ельцин, Борис Джонсон, Николя Саркози, Меркель), и ссылками на гениев-алкоголиков, которыми герои забрасывают как друг друга, так и учеников, задает соответствующую анекдоту степень обобщения. Проблема попеременно возводится то в национальный, то в общечеловеческий масштаб; однако нельзя отрицать превалирование гендерно детерминированной оптики: в рамках картины только мужчин беспокоит проблема масштаба личности, только из мужских персоналий состоит исторический и культурный процесс, хоть это и «алкогольная» история.
Невольно напрашивается сравнение с «Мужьями» Джона Кассаветиса, где невыраженная женская оптика становится значимым отсутствием, с помощью которой выстраивается бинарная оппозиция. А мужской голос, претендующий на то, чтобы стать голосом жертвы, оправдывает любые свои поступки, в обобщенном виде говоря следующее: «Мы такие, потому что любовь — это сложно, но еще сложнее, когда любви больше нет»; а потом и вовсе: «Мы такие, потому что вы нас такими сделали». Герои Винтерберга, существующие в ином социальном контексте, уже способны брать на себя ответственность за собственную нереализованность, однако при этом режиссер все еще прибегает к объективации женского образа, наделяя его ролью лакмусовой бумажки, или, если точнее, зеркала. Женщина, может мелькать на периферии кадра, может требовать или не слышать, уходить и изменять, может смеяться над глупыми выходками и может скучать, но не может говорить за себя. Когда жена Мартина произносит заветное «я скучала по нам», это фраза ничего не говорит ни об их семье, ни об их любви – лишь о личности героя, которая пропала на время и сейчас словно бы возвращается на свое законное место. И возникает закономерный вопрос, кому из них двоих на самом деле принадлежат ее слезы после близости, сопровождающие признание о том, что она рада «возвращению» мужа? Тогда как осмысление социальной системы через бинарность, предпринятое Кассаветисом в 1970, полвека спустя выглядит по меньшей мере атавистично, Винтерберг, лишь слегка затрагивая гендерную проблематику (и окончательно тем самым превращая женский образ в условность), уходит в еще большее обобщение: почему уходит любовь? Ведь в тот момент, когда под влиянием ежедневных возлияний дела у Мартина как будто бы все налаживаются, внезапно оказывается, что такого «присутствия» и такой «близости» вовсе не достаточно, чтобы вернуть себе право на взаимность.
Кьеркегор в эпиграфе не оставляет шанса на двусмысленность: любовь принадлежит юности. А если так, то это значит, что она не принадлежит тем, кто думает, что не заслуживает ее. Финал «Еще по одной» трогательно-оптимистичен: юность — это состояние сердца, открытого для любви. Алко-трип приводит к неожиданному очищению от аффекта; ведь, проспиртовавшись, герой, на самом деле, прошел необходимую дезинфекцию, чтобы понять: и молодость, и любовь — это усилие объять то, что тебе не принадлежит, не заявляя на него права, все равно что вернуться к утраченному райскому блаженству. И финальный танец, все равно что уравнивающая всех, и молодых, и уже не очень, пляска смерти — единственно возможный триумф человеческого — воспевать вечную молодость сердца по дороге с поминок и держаться за жизнь что есть силы, но и не забывая смеяться.
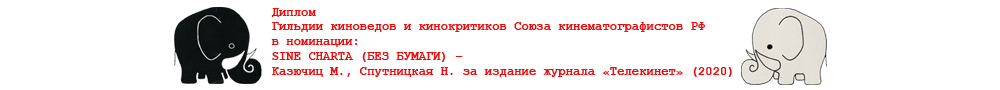
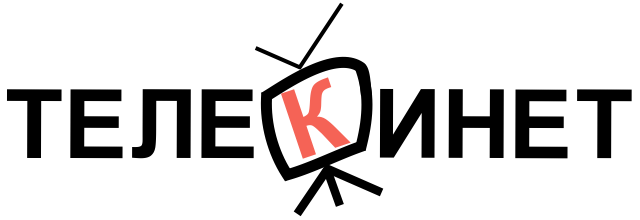




One Reply to “Перепивая классиков: еще по одному Винтербергу”