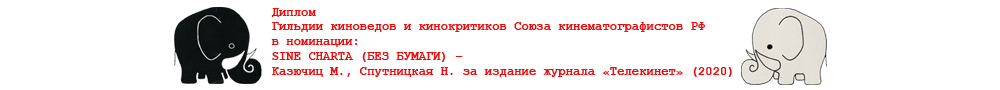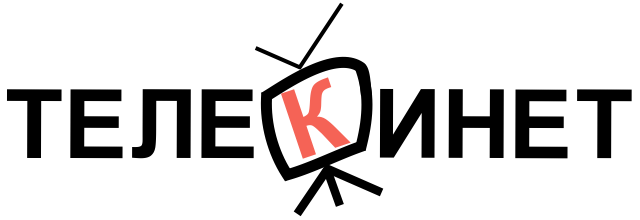На ММКФ показали «С любовью и яростью» Клер Дени. #Венсан Линдон и Жюльет Бинош. #60+. #Любовный треугольник. #Серебряный медведь. #Франция. #Без ковида. #Без иммигрантов в кадре.
@Елена ПАТЕЕВА
Написанный Клер Дени в соавторстве с писательницей Кристин Анго (ранее они уже работали вместе над картиной «Впусти солнце»), «С любовью и яростью» повествует о любовном треугольнике. Жан и Сара (великолепный актерский дуэт Венсана Линдона и Жюльет Бинош) вместе уже 10 лет. Когда они впервые встретились, Сара жила с Франсуа, лучшим другом и коллегой Жана. Сейчас Жан и Сара любят друг друга, и, кажется, что их счастье не омрачает даже то, что Жан, бывший профессиональный игрок в регби, подозрительно медленно адаптируется к нормальной жизни после окончания своего тюремного заключения и живет за счет Сары. Но однажды Франсуа возвращается в их жизнь, когда Сара случайно замечает бывшего возлюбленного на улице, а Жан получает от него предложение снова работать вместе, и их любовная идиллия дает трещину.
«С любовью и яростью» — смысл названия во время просмотра фильма то и дело приходится воскрешать в памяти: как минимум один из его компонентов будто бы отсутствует, и это отсутствие в определенный момент начинает казаться знаковым. Тягучий, несколько даже «сонливый» ритм несколько ни убавляет общей напряженности повествования, и напряжение это, как кажется, порождается лакунами и неотвеченными вопросами. Где ярость, стоит ли ждать сейчас какой-то непредвиденной вспышки? Любовь ли это, и кого в действительности любит героиня? Но в большей степени: куда на самом деле Жан и Франсуа ездят по ночам? По какой причине Жан попал за решетку? Не показалось ли мне, что в этом был замешан Франсуа?
Напряжение создается с первых же минут «городской» части повествования. После идиллического пролога, изображающего героев в отпуске, а, если быть точнее, изображающего их совместное купание — бесконечные объятия и слепящие солнечные блики, зрелище, с первого кадра задающее непривычно размеренный ритм, навязывающий зрителю ощущение, что ему навязывают акт вуайеризма, несмотря на то, что происходящее вполне себе невинно, — действие перемещается в серый и холодный Париж, постковидный, если вообще в этом разрезе целесообразно говорить о «пост-». Необходимость носить маски и постоянное смотрение друг на друга сквозь стекло — «С любовью и яростью» говорит через сокращение и увеличение дистанции, чему соответствует довлеющее ощущение города — или цивилизации в целом.
Кажется, что повествование все время меняет направление: примерно каждые двадцать минут развитие сюжета провоцирует сомнения в жанровой принадлежности фильма и в соответствии с этим трансформируются зрительские ожидания. Интересным образом городское пространство вовсе не формирует мотива блужданий по лабиринту: блуждания скорее оборачиваются хождением героев вокруг да около, а пространство используется не для освоения новых территорий и не для поиска сокрытого, а для сталкивания и отдаления персонажей друг от друга. Игра с жанровыми ожиданиями посредством включения детективного инструментария также используется для выстраивания дистанции: кажется, что из сюжетной ткани тут и там торчат нитки, чтобы зритель, утомленный крупными планами и полуразмытым фоном, цеплялся за них в надежде на то, что дейтствие станет динамичнее, и в итоге оказывался ни с чем.
Изображая замаскированную под заботу и беспокойство о возлюбленном неудовлетворенность жизнью, Дени держит неудовлетворенным и зрителя: в первую очередь потому что на визуальном уровне ткань повествования будто бы нас подводит. Или сопротивляется нам. «Взгляд» то и дело становится расфокусированным, пространство — недружелюбным, так что легкое ощущение агорафобии сменяется не менее субтильной клаустрофобией, лица и тела укрупняются наскоком, и возможность самому выстраивать дистанцию в мире «С любовью и яростью» никому не принадлежит — ни паре главных героев, ни зрителю. Но что остается непроясненным — так это чьими глазами мы видим те эпизоды, которые так и остаются нитками, торчащими из цельного полотна повествования, те включения, которые никуда не ведут: Жана, заправляющего машину и совершающего покупки, едущего в неизвестном направлении, встречающего Франсуа, чтобы дальше ехать с ним — работать или заниматься чем-то гораздо более опасным? И почему это обязательно должно происходить ночью? Почему об этом нельзя говорить? Что из этого происходит на самом деле, а что додумывает Сара?
Страх становится частью повествовательной ткани, но и он динамичен; тяжелая поволока, туман или едва заметный флер — как и все прочие элементы фильмической структуры, он непрестанно трансформируется, не давая возможности зацепиться за него и идентифицировать таким образом, чтобы разгадать сюжетообразующий конфликт раньше положенного. Страх невозможно привязать ни к одному сюжетному ходу — тревога просто не оправдывает себя, ведь что бы героиня не ожидала от ближайшего будущего, ничего плохого не происходит. Но (спойлер!) стоит ли конфликт разгадывания? Не в этом ли заключается настоящее удовольствие, чтобы позволить недетективной структуре фильма затянуть себя, и пропитаться его тревогой, и пытаться верить всем беспорядочным попыткам героини не дойти до сути происходящего, делая вид, что она ищет ответы на свои вопросы, тогда как, в действительности, она все уже давно поняла, но не может набраться смелости признать?
Несмотря на тяжеловесную, несколько даже старомодную организацию повествования, Дени создала сугубо современный нарратив: и дело не в расовом неравенстве, не в классовом расслоении, не в стигматизации бывших заключенных и даже не в привязке к временному промежутку через коронавирусные реалии, а в непреходящей необходимости формулировать эту глобальную реальность, формулировать как проблему или даже угрозу, и таким образом как-то прорываться сквозь расфокусированность и беспомощность своего взгляда, не способного предугадать самую очевидную развязку конфликта за два часа экранного времени — или отказывающегося ее предугадывать за некой… банальностью? Не только героиня, но и сама повествовательная структура будто бы сопротивляется правде: все не может быть так просто, корень проблемы не может скрываться именно в этом. А потому усложнения и запутывания — это способ через формулирование реальности как сложного механизма скрыться от разоблачения истинной простоты любого конфликта. Формулирование реальности — это способ скрыться от реальности. Сформулировать ее как угрозу, пересоздать другого в своей фантазии как угрозу привычному ходу вещей или даже как свою собственную неудачу (реальную или потенциальную) оказывается способом вынести причинность конфликта вовне, снять с себя ответственность. Интересным образом в пригороде, где живут мать и сын Жана и где, по сути, его подноготная проговаривается со всей возможной откровенностью, где его неудачи могут быть названы своими именами, воздуха и света гораздо больше. Исчезает нестабильный фокус и ручная камера, от которой кружится голова, нет давящих крупных и детальных планов. Неудача — не приговор, а одна из ступеней, на которую стоит встать обеими ногами, чтобы двигаться дальше. Способ достичь ясности. И парадоксальным образом признание ее не требует слов. Не требует оправданий.
«С любовью и яростью» воплощает разочарование в речи. Если «Впусти солнце» апеллировал к любовному взаимодействию как лингвистическому дискурсу, осмысляя «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта и как бы «проверяя» его опытным путем (оставим открытым вопрос о том, проходит ли он проверку), то «С любовью и яростью» становится уже более радикальным «антиязыковым» высказыванием, когда кинематографическое ставит под сомнение драматургическое, некой версией темы «Прощай речь» от Клер Дени. Организующий действие как некий рефрен призыв Сары поговорить с ней раз за разом отдаляет героев от истинного положения вещей. Антоним говорения здесь — способность увидеть; и этой способности видеть Сара раз за разом зрителя лишает, навязывая ему свою версию событий, уводя фокус с собственных чувств на додумывание того, что происходит с Жаном, и тревожное восприятие пространства. В десятилетие терапии и осознанных отношений в этом фильме Дени разговоры оборачиваются забалтыванием, эмпатия — лицемерием, и все, что касается слов, — проговаривание или молчание — все оборачивается лишь желанием защищать себя, пока обстоятельства не обнаружат скрытые желания и страхи героев, которые и являются реальностью с которой им необходимо столкнуться.
Альтернатива речи — телесность. Не только потому что у Дени тело подавляет речь, стирая ее, но и потому что интимность используется не столько как форма коммуникации, сколько как способ нивелирования дистанции. Важно, что прием этот работает в большей степени при взаимодействии зрителя с интимной сценой: если персонажи раскрывают свое отношение к происходящему (к кому обращен шепот Сары «любовь моя», если она ни разу не посмотрела на Жана за всю сцену секса?), то для зрителя происходит обнажение формы — фильм изобилует сверхкрупными планами со значительным хронометражем, и переключение на них зачастую происходит слишком резко. Это вызывает ощущение «скачущей» дистанции; при этом лишь в сторону сближения, тогда как «отходить» назад камера не спешит. Описывая в «Кино» то, как Бергман работает с кадрированием, Жиль Делез исследовал крупный план лица как способ визуальной деиндивидуации образа — лицо перестает быть чьим-то лицом, оно лишается личностной принадлежности, становясь неким персональным небытием в аффекте. В частности, это встреча со страхом. И равно как встреча с истинным желанием нивелирует любые попытки героев найти себе оправдание и спрятаться за диалогом, так и крупный план стирает образ, оставляя эмоцию — содержание персонажа, которое он не может «контролировать» своим поведением. Камера подчиняет себе восприятие, как бы врываясь в драматургическую конструкцию и навязывая ей «взгляд». Этот взгляд настолько очевиден своим несоответствием привычному ракурсу, в котором предстает собеседник в «реальном» диалоге, настолько никому не принадлежит, кроме зрителя, которому он навязывается, что зритель поневоле должен ощутить себя как некую агентность, которую в этот конкретный момент встраивают в структуру фильма. Созерцание же аффекта в чистом виде стирает тревогу персонажа, которой пропитана структура фильма, выставляя ее на поверхность, делая максимально очевидной для зрителя так, что он больше не может ощущать ее как собственную.
Форма, изначально подчиненная эмоциям главной героини, постепенно выходит из-под контроля, по мере того, как набирает силу отрезвляющая, пожалуй, даже злая ирония, в которой нельзя не считать авторское присутствие. Все сильнее напоминающие бергмановские «Сцены из супружеской жизни» попытки героев объясниться и оправдаться превращаются в окончательную дискредитацию речи, поскольку сама структура фильма берет над ними верх, сталкивая речь и действие, чтобы обнаружить их несоответствие друг другу — переходя к обличению без морализаторства, лишь с невиданной ранее у Дени долей сарказма. Так, лишаясь возможности дать объяснение происходящему, Сара не утрачивает право выбора, но освобождается от него — действием. И действие оказывается превыше всего — без слов, без поверхностных эмоций, но с любовью и яростью, которые никому на деле не принадлежат. А зрителю лишь остается смириться с тем, что его так долго обманывали, и понять, что он пришел в кино для того, чтобы оно на пару часов подчинило его себе.