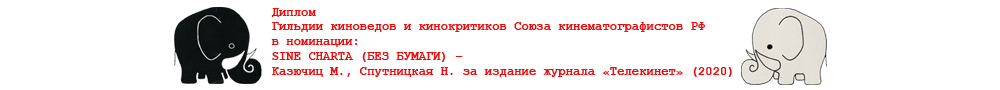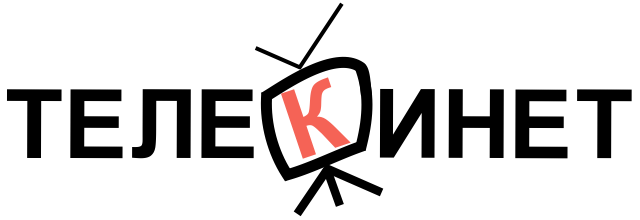Пульсирующий ритм «Наживки» британского режиссера Марка Дженкина погружает нас в атмосферу немого кино, герои которого, однако, говорят — и говорят с малопонятным корнуэльским произношением. В контексте брексита сквозь призму кинематографической традиции отчетливо проглядывает социально-критическое высказывание о разрушении традиции национальной.
https://youtu.be/B-UuK7zAun4
@Елена Патеева
Имя Марка Дженкина стало известно в 2002 году, когда за режиссуру фильма «Золотой ожог» он получил премию Фрэнка Копплстоуна на Кельтском фестивале кино и телевидения. За ним последовали многочисленные короткометражные фильмы и малобюджетный полнометражный дебют ленты «The Midnight Drives», премьера которой на Корнуэльском кинофестивале окончательно закрепила за Дженкином статус заметной фигуры корнуэльской волны независимого британского кинематографа.
Премьерный показ «Наживки» состоялся на Берлинале-2019, где фильм стал единственной британской работой, вошедшей в программу «Форум». Снятая на 16-миллеметровый Bolex, черно-белая «Наживка» была тепло принята критиками, получив стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes. Фильм номинировался на призы многих международных фестивалей и получил ряд престижных наград, самой заметной из которых стала премия BAFTA «за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера».
 Немота кадра в «Наживке» разрывается акцентированно невнятной речью, к которой приходится с усилием прислушиваться, а кажущаяся привычность монтажных решений в современном контексте заставляет заново привыкать к формату, самостоятельно достраивая целостный нарратив из нарочито грубо нашинкованных фрагментов с вязкой прослойкой мифологических ассоциаций.
Немота кадра в «Наживке» разрывается акцентированно невнятной речью, к которой приходится с усилием прислушиваться, а кажущаяся привычность монтажных решений в современном контексте заставляет заново привыкать к формату, самостоятельно достраивая целостный нарратив из нарочито грубо нашинкованных фрагментов с вязкой прослойкой мифологических ассоциаций.
Само слово «миф» приходит на ум неслучайно: повествовательное время словно бы схлопывается и одновременно тянется, превращается в предчувствие, которое все никак не осуществится, — так организуется саспенс; и мы как будто бы знаем заранее, что случится в финале, но одновременно с этим до последнего не осознаем, в чем же смысл подобной развязки. — В повествовательное безвременье врывается неясное пророчество о смерти, и, подобно мифологическим героям, мы смиряемся с тем, что конфликт может быть решен только через жертвоприношение.
Однако и мифологическое безвременье оказывается амбивалентным, поскольку с самого начала оно нарушено вторжением «чужих». Мы не видели его в целостном состоянии и понимаем, что оно было единственно правильной формой существования, только потому что созерцаем его разрушение. Это история о корнуэльском «потерянном рае», где оппозиция «добра» и «зла» выразилась в противопоставлении «подлинного» и «суррогатного».
Социальная проблематика фильма очевидна: капитализм убивает «природное» и естественное, создавая продаваемые суррогаты, маскируясь под аутентичность. Подлинное и настоящее оказывается никому не нужным: туристы приезжают в рыбацкое поселение, рассчитывая, что место подстроится под них и их представления об «отдыхе», а не для того, чтобы познакомиться с его культурой. Живая жизнь оказывается слишком сложной и непродаваемой категорией; более того — она и не хочет быть проданной, она хочет просто жить.
Важно, что и обитатели ставшего теперь туристическим городка не могут располагать его благами, не «выкупив» возможность это делать. Лодку приходится «выкупать», то есть покупать новую, поскольку имеющаяся теперь занята в туристическом бизнесе. «Своими» для рыбака оказываются не бескрайние морские просторы, а места, до которых он может самостоятельно добраться. Захватившая полусредневековый быт капиталистическая модель диктует: рыбачь вдоль побережья, если не можешь купить себе возможность выплыть за пределы бухты. Наживкой оказывается место, которое ты занимаешь в системе, система же — прочная сетчатая ловушка, из которой уже не выбраться, но биться в ней все еще можно.
 Кажущаяся современному человеку устаревшей категория «верности» прошлому подается через модель купли-продажи (можно продать отцовский дом, сделать рыбачье судно прогулочным катером для туристов), но неожиданно развенчивается не понятие, а сам рыночный подход: да, братья продали «свое» чужакам, но при этом не перестали чувствовать это своим, а значит не отпустили это и могут взять его назад, чего дельцы, носители «цивилизованного» мировосприятия, понять не могут.
Кажущаяся современному человеку устаревшей категория «верности» прошлому подается через модель купли-продажи (можно продать отцовский дом, сделать рыбачье судно прогулочным катером для туристов), но неожиданно развенчивается не понятие, а сам рыночный подход: да, братья продали «свое» чужакам, но при этом не перестали чувствовать это своим, а значит не отпустили это и могут взять его назад, чего дельцы, носители «цивилизованного» мировосприятия, понять не могут.
Важной оказывается и «устаревшая» идея преемственности: сын одного из братьев тяготеет к дяде как носителю ценностей «места», как к тому, кто не предает свои корни, потому что чувствует свою роль в цепочке «наследования». Принадлежность оказывается фактором, налагающим определенные обязательства и ответственность; чувство принадлежности — это голос совести. Ему противопоставляется сын «интервентов», который пытается влиться в чужую традицию, взять себе то, на что неспособен, чего не понимает и не может понять. С одной стороны, он как будто бы хочет этого приобщения к контексту, но при этом отчаянно сопротивляется «смешению» с местными, когда противодействует сближению сестры с племянником главного героя.
Важным образом оказывается местная «ундина», по сути трикстер в женском обличии: она обостряет конфликт между местными и чужаками и одновременно с этим становится единственной, кто оказывается в выигрышной ситуации, наследуя «место» убитого сына-племянника. Из позиции между двух огней она уверенно переходит на сторону главного героя, окончательно закрепляя авторскую позицию в изображаемом конфликте. Сила, которую нужно сдерживать, неожиданно приходит в женском обличии, становится стихийным и бессмысленным порывом гнева, и она же оказывается условно правой, потому что побеждает.
Ее сопротивление — это игнорирование границ, выстраиваемых там, где их не должно быть, и теми, кто не имеет на это права. Она не столько не поддерживает противопоставление «своих» и «чужих», а указывает, что сама система, вводящая эту оппозицию, не имеет права на существование. Единственный верный поступок — бросить в нее камень. Это акт не насилия, но протеста. И фильм как художественное высказывание превращается в этот камень.

Важно и то, что место действия одновременно превращается во время — на контрасте с его «привычным» восприятием. Идея туристического курорта подразумевает возможность сбежать в прибрежный городок от современности, но одновременно эту современность в него и привносит. Конфликт возникает между оптиками, между восприятием времени: местные условно воплощают взгляд из прошлого, а приезжие, как и зритель, — взгляд в прошлое. Однако овладеть «прошлым», сделать вид, как будто оно настоящее, невозможно — его можно только наследовать, то есть принадлежать ему. То же, что делают «капиталисты», — это реализация того самого насилия, которое выразилось в рваной пульсации монтажа: разрушение целостности времени, кромсание действительности, попытки отрезать ее от корней и внести в нее посторонние, неприживающиеся коннотации.
Схлопывание же времени, его закольцовывание и неразличимость начала и конца лишь обозначают: «времена» меняются, только потому что меняется восприятие. И если сначала кажется, что объективной нормы нет, что она меняется от контекста, то по ходу действия оказывается, что норма есть — ее диктует принадлежность к контексту.
Таким образом «немота» перестает восприниматься как ностальгия по манере, как конструкт, нечто устаревшее, а потому культивируемое ради контраста. Контраст лишь заставляет обратить внимание на «другое», чужое, незнакомое — вглядеться и прислушаться, понять, что немоты в нем нет, позволить говорить ему на собственном языке, не привнося в повествование свои коннотации.
Что же есть наживка? Чувство принадлежности чему-либо: месту, традиции, языку, ценностям — и ответственность не уступать свое место, защищая систему в целом? Или это недоступное чужим и привлекательное для них, не принадлежащих этому континууму, чувство целостности, пусть и утраченной, но все еще мощной как ценностная категория? И кто в такой ситуации оказывается рыбаком, а кто рыбой?